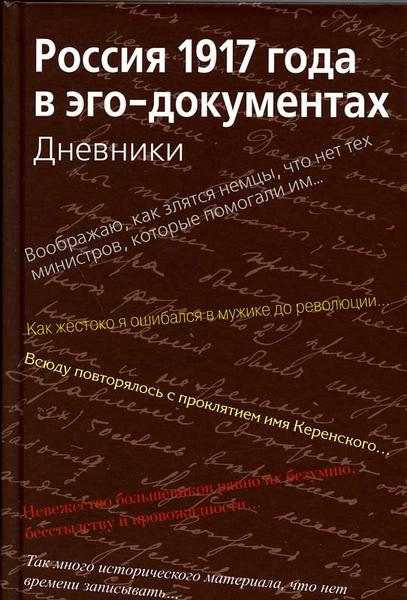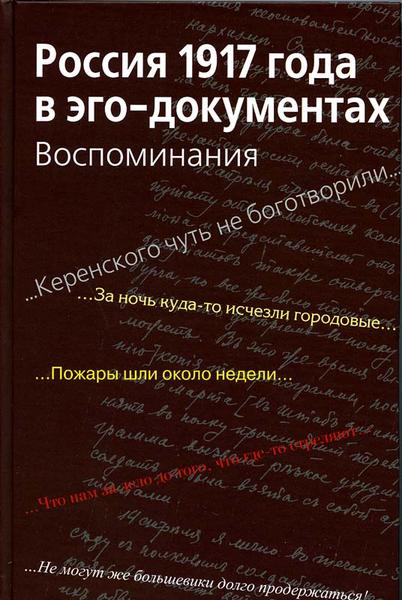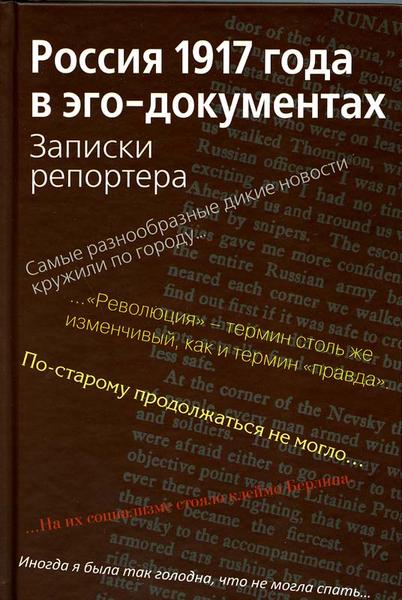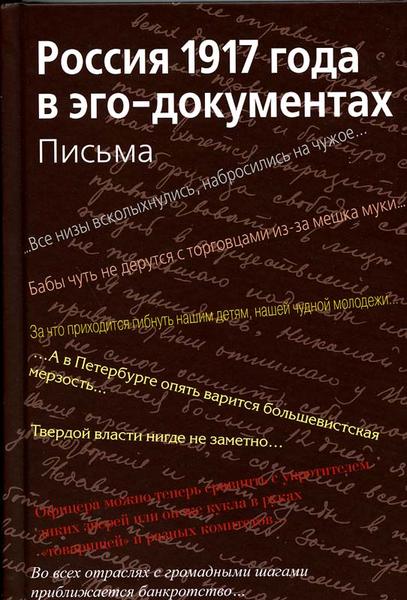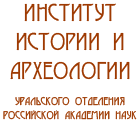В числе наград имени выдающихся ученых Урала по итогам конкурса 2020 года почетный диплом имени П.И. Рычкова присужден доктору исторических наук Наталье Викторовне Суржиковой (Институт истории и археологии УрО РАН) за цикл документальных изданий «Россия 1917 года в эго-документах». Мы встретились с дипломантом и попросили ее рассказать об этой работе.
В числе наград имени выдающихся ученых Урала по итогам конкурса 2020 года почетный диплом имени П.И. Рычкова присужден доктору исторических наук Наталье Викторовне Суржиковой (Институт истории и археологии УрО РАН) за цикл документальных изданий «Россия 1917 года в эго-документах». Мы встретились с дипломантом и попросили ее рассказать об этой работе.— Наталья Викторовна, прежде всего вопрос: что такое эго-документы?
— Термин еще не стал общеупотребительным, хотя в зарубежной историографии он появился в середине 1950-х гг. Главный признак эго-документов — совпадение автора и героя повествования, то есть человек пишет о себе, всегда присутствует автобиографическая компонента текста. В их число включаются письма, дневники, воспоминания, травелоги (записки о путешествиях) и еще ряд подобных жанров. Конечно, это особый тип исторических документов, требующий определенного подхода, методологии, учитывающей их специфику. Поскольку во многом это сиюминутные, «поденные» записи о личном, в них нет развернутого анализа событий, зато присутствует их эмоциональный образ, отражение чувств, страхов, надежд, переживаний. Мы как бы видим историю глазами очевидца, что позволяет нам открыть для себя ее личностный аспект. В этом смысле наша работа вписывается в тренд поворота истории к антропологическому измерению.
— Антропология — это ведь скорее философское понятие, а как же объективные исторические данные?
— У исторической науки не одна задача, которую она должна решать каждый год и каждую эпоху. Разумеется, необходимо исследовать объективные предпосылки происходившего, например, развитие политических, экономических, демографических и других процессов. Но когда мы читаем о миллионах тонн добытого угля, выплавленной стали, тысячах паровозов — эта статистика очень далека от личного опыта человека, мы не узнаем эту историю как свою собственную. Нам не становятся понятнее чувства и мотивы людей, живших в описываемое время. И во многом такое отстраненное изложение объясняет, почему не только мы, ученые, но и все российское общество до сих пор не можем понять, что же случилось сто лет назад, не можем принять эти события и определиться в своем отношении к ним.
— Четыре толстых тома, более двух тысяч страниц документов — солидное издание. Но это капля в море даже сохранившихся свидетельств о том, что происходило сто лет назад в стране. Как вы подошли к отбору материала?
— Действительно, этот издательский проект вылился в объемный результат. Мы получили трехлетний целевой грант на 2015–2017 годы и издали три тома. Но в ходе работы стало ясно, что нужен еще один том, мы год искали финансирование, поэтому проект затянулся на пять лет. Удалось привлечь в том числе и никогда не публиковавшиеся ранее архивные источники, в том числе хранящиеся в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына — там собрана уникальная коллекция мемуаров россиян, оказавшихся после революции за пределами нашей страны. Один из томов — репортажи двух американских журналисток, работавших в России, — был переведен с английского. В томе писем представлены документы Российского государственного архива древних актов, куда редко обращаются историки России ХХ века.
Конечно, мы отбирали материал прежде всего по принципу различия и выстраивали его, сочетая, например, письма мужчин и женщин, взрослых и детей, горожан и крестьян. Здесь есть мемуары аристократов, дневники гимназистов, письма солдат. Но речь не шла о том, чтобы найти какие-то свидетельства, говорящие в пользу заранее выдвинутой гипотезы. Мы ставили задачу создать достаточно широкое пространство исторических текстов, в котором каждый читатель — будь он профессиональным историком или просто любителем истории — мог найти что-то, что было бы интересно именно ему. Возможны абсолютно разные траектории чтения и разные выводы, потому что как сама история всегда остается открытой книгой, так и наше издание может быть дополнено другими источниками.
— Но ведь каждый эго-документ уникален, поэтому возникает вопрос: насколько представительны отобранные вашей издательской группой тексты?
— Здесь следует иметь в виду несколько важных особенностей. Во-первых, нет никаких уникальных эго-документов. Они все пишутся по лекалам, сформированным культурой. Дневники, письма, мемуары — определенные жанры, которые давно сложились и дожили до наших дней. Например, в письмах всегда есть зачин, передача поклонов родным — иногда это вообще главное, например, в письмах с фронта. Во-вторых, эго-документы всегда диалогичны. Даже самые интимные дневники пишутся для того, чтобы их прочли. Это в любом случае диалог пишущего с миром, поиск своего места в мире и осмысление мира в этом диалоге. В-третьих, эго-документы всегда лгут. Они лгут не только в части перепутанных фамилий и дат, но и в описании роли автора в тех или иных событиях. Человек, выстраивая свою автобиографию, разбирает факты на достойные и недостойные внимания, заслуживающие упоминания или нет — в любом тексте идет конструирование личной версии истории.
В любом случае каждый эго-документ сам по себе прекрасен. Но если вы хотите действительно услышать голос истории, почувствовать, как на самом деле жил человек, чем он отличался от нас, тот или иной конкретный документ необходимо «погрузить в массив», в контекст других эго-документов и в диалог с ними. Вы легко увидите первый пласт, то, что повторяется многократно, из текста в текст — это голос времени. Второй пласт — субъективный уровень, голос социальной группы. И, конечно, есть третий — авто-психобиография, личный голос человека.
— А что в этих документах увидели вы сами, как один из первых читателей этого издания?
— Во-первых, у меня сразу же стало складываться ощущение, что я вижу эти события собственными глазами. И стало ясно, что искать в эго-документах привычную фактологию бессмысленно, не это в них главное. Речь там о ситуациях и пространствах личной жизни, это не высокий дух истории, а ее физиология. Во-вторых, поразительно, какие замечательные люди жили в то время и насколько они разные. Историки привыкли мыслить крупными социальными группами, стратами, классами, сословиями, а в реальности мы видим, что они распадаются на множество мелких социальных групп, живущих очень по-разному. Третье — это разная степень встроенности индивидов в революционный контекст. Казалось бы, происходят события мирового масштаба, но одни это чувствуют (хотя сплошь и рядом не понимают, что именно происходит), а другие этого просто не видят. И, наконец, эмоции и мысли современников. Именно «погружение в массив» формирует понимание того, как люди выживали в этих страшных событиях и какой опыт дала им революция.
— Если кратко охарактеризовать каждый из типов эго-документов, что для них характерно?
— Мемуары — довольно специфический источник, в котором встречаются два времени: время описываемого события и время создания источника, и два эти времени все время наслаиваются друг на друга. Очень большая разница между мемуарами взрослых и детей. Для детей революция — опасное, но увлекательное приключение: мама спрятала девочек в шкаф, потому что на улице стреляли, и пули влетали в окно. Девочки вылезли и смотрели, как пули впиваются в стену, им было интересно — представьте, что чувствовала в этот момент мама. Разница в восприятии гражданских и военных: для военных революция была шоком, а вот гражданские чувствовали заранее, что добром дело не кончится, поэтому психологически ожидали чего-то подобного. Но что самое интересное — у всех мемуаристов дореволюционная Россия вызывает ностальгию. С одной стороны, революция — это утрата, и даже не материального плана (достатка, положения, еще чего-то), а социокультурного, утрата определенности и упорядоченности жизни. С другой стороны, ностальгия видна даже у крестьян: для них революция — краткий период вседозволенности, «революционной романтики», чувства, что все происходящее зависит от тебя самого. Меняются представления людей о пространстве: столица становится ближе губернского города, потому что о событиях в столице все время пишут и говорят. Меняется и восприятие времени. Оно отрывается от календаря: раньше что-то происходило «после Пасхи» или «перед Рождеством», сейчас в качестве точек отсчета используются политические события — «после Корниловских дней» и т.д. Время становится гуще, оно уплотняется, сжимается, бежит быстрее.
В дневниках Россия 1917 года выглядит совсем иначе, чем ее представляют другие источники. Там можно вообще не увидеть общего, идет обычная жизнь: гуляли, обедали, были гости. Возникает ощущение, что этим детально описываемым бытом авторы выстраивают своего рода защитную стену, которой пытаются отгородиться от внешних событий. Ужасает то, что люди были буквально заворожены, очарованы насилием, никем не контролируемым и повсеместным. Они фиксируют смерти знакомых и слухи о грядущих казнях и расправах. Страна находится в ситуации психологической травмы, которую люди пытаются проговорить, но не находят слов. Они ощущают, что грядет что-то великое и страшное — и угадывают детали. М. Чевеков, провинциальный гимназист, прячущийся от будущих красных и от будущих белых, пишет «будет ужасная внутренняя война». Р. Хин-Гольдовская, коктебельская муза М. Волошина, предсказывает расстрельные «тройки» (она по памяти цитирует «Бесов» Достоевского, где речь, правда, шла о «пятерках»).
В качестве травелогов мы выбрали две книги, построенные на записках американских журналисток. Одна из них, Флоренс Харпер, явно не одобрявшая революционных перемен, побывала в России в первой половине 1917 г., а Бэсси Битти, хорошая знакомая небезызвестного Джона Рида, как и он, восторженно принявшая революцию, — во второй. Начальные главы обеих книг полны штампов, характерных для восприятия России иностранцами (холод, дикость, огромные пространства и т.д.). Но страна менялась на глазах, менялось и ее видение, ее образ. Конечно, подобное крушение привычных шаблонов происходило и у россиян, но в текстах, созданных людьми иной культуры, это нагляднее. Такой «пересборкой реальности» и интересны травелоги, тем более что у каждого из авторов была своя пересборка, связанная с его убеждениями.
Письма — это прежде всего совершенно невероятные слухи, порождаемые информационным вакуумом. Люди пишут друг другу, потому что психологически это для них чрезвычайно важно: знать, что родственников и знакомых не расстреляли, они не умерли от голода или болезни. Это дает людям хоть какую-то иллюзию стабильности жизни. Характерный фрагмент: «Я написала вам столько писем, а от вас не пришло ни одного, мне кажется, что я умерла». И непостижимо не только то, что почта в то время все-таки работала и письма доходили, но и то, насколько значимо было для людей того времени сохранить связь с близкими.
— И какие же основные выводы вы сделали?
— Еще раз оговорюсь, что эго-документы — открытая книга. Каждый читатель найдет в них что-то свое и вправе делать какие-то свои выводы. На мой взгляд, опубликованные нами документы прежде всего фиксируют ощущение экстраординарности, масштабности революционных событий в России 1917 года. Никто не смог от них спрятаться. Это, в свою очередь, привело к эффекту утраты определенности жизни. Люди потеряли привычные ориентиры, они, как дети, были вынуждены открывать и познавать мир заново. Кроме того, изменив восприятие россиянами времени и пространства, 1917 год сформировал у современников ощущение «быстрого плотного времени», сохранившееся на протяжении всего ХХ века. Отсюда следует самое главное: как пелось в старой советской песне, «есть у революции начало, нет у революции конца». События этого года переживались еще не одно десятилетие и внутри страны, и за ее пределами. Практически все современники так или иначе стали участниками событий Русской революции 1917 года, и именно сумма личных поведенческих выборов конкретных людей определила нашу историю. Думаю, удалось наглядно показать, что история — это всегда результат коллективного действия.
Лично для меня этот проект стал не только важным опытом моей профессиональной жизни, но и счастьем работать с первого до последнего дня в замечательном коллективе единомышленников. Это безвременно ушедший из жизни нынешним летом доктор исторических наук Е.Ю. Рукосуев, кандидаты исторических наук М.И. Вебер, Е.Ю. Лебеденко, Н.А. Михалев и С.А. Пьянков. Историография, как и история — тоже дело коллективное.
Вел беседу
Андрей ЯКУБОВСКИЙ